И. С. Яссер
Моё общение с Рахманиновым
Встреч и общений с Сергеем Васильевичем Рахманиновым было у меня немного. Несколько частных бесед у него на дому и небольшая корреспонденция составляют почти что весь их количественный актив. Но в качественном отношении эти «соприкосновения» с покойным Сергеем Васильевичем представляются мне несколько более значительными и, во всяком случае, способными в какой-то степени заинтересовать современного читателя. Связанный же с ними чисто фактический материал, из коего многое сохранилось у меня в виде отрывочных, но своевременно сделанных записей, окажется, быть может, не бесполезным и кому-либо в будущем, при составлении исчерпывающей биографии Рахманинова или при историческом описании эпохи, в которую он жил и творил. Склонен думать, что одна уже эта возможность, — если б и не было иных обстоятельств, — является достаточным основанием для опубликования последующих страниц.
*
Моё первоначальное знакомство с Сергеем Васильевичем Рахманиновым относится приблизительно к осени 1931 года. Состоялось оно, помню, на его нью-йоркской квартире, куда я пришёл по делам, связанным с деятельностью русского музыковедческого кружка, функционировавшего здесь к тому времени уже более года. Свидание наше было заранее подготовлено Александром Ильичом Зилоти, которого я знал давно и который, присутствуя почти неизменно на собраниях кружка, чрезвычайно благожелательно относился к этому начинанию.
Так как, со слов последнего, Рахманинов имел не совсем ещё ясное представление о цели моего посещения, то я стал ему подробно рассказывать о том, как по моей инициативе образовалась в Нью-Йорке русская группа, заинтересованная в обсуждении и разработке музыкально-исторических и теоретических вопросов и успевшая уже провести несколько научных заседаний.
В ответ на краткое вопросительное замечание Рахманинова касательно «практического» смысла этой работы, я напомнил ему, что, помимо громадного значения музыковедения как самостоятельной научной дисциплины, оно обычно способствует ещё и столь насущному всюду повышению культурного уровня рядовых музыкантов, а окольными путями и воспитанию вкуса к подлинным, нетлеющим музыкальным ценностям у широкой публики. Закончил я свою «интродукцию» откровенным заявлением, что имею намерение привлечь его — Рахманинова — к нашей работе, если, конечно, она ему в какой-либо степени импонирует.
— Но из кого, собственно, состоит ваша группа, — спросил в свою очередь Рахманинов, — разве здесь имеется достаточное количество музыкантов, интересующихся деятельностью этого рода?
Я назвал ему ряд посещающих наши собрания лиц, оговорившись, однако, что не все ещё являются активными работниками в этом деле и что лишь некоторые читают специально приготовленные доклады, тогда как остальные либо принимают участие в дискуссиях, либо просто «прислушиваются» до поры до времени.
— А сами-то вы, конечно, тоже принадлежите к числу докладывающих? — продолжал расспрашивать Сергей Васильевич.
— Ну, уж «зачинщику» трудно было бы этого избежать, если б он и захотел. Но пока что, как и другие, я сделал всего лишь одно сообщение.
— О чём же именно вы читали?
— Об основах будущей тональной системы.
— Бу-ду-щей? — переспросил с некоторым удивлением Рахманинов и при этом как-то слегка повернул голову в сторону, словно прислушиваясь к незнакомому звукосочетанию. — Что же это за система?
Я не ожидал «углубления» им этого вопроса. Однако дабы не отклоняться от главной темы нашей беседы и не отягощать его чрезмерным визитом, я предложил ему отложить свой ответ до более благоприятного случая, на что Сергей Васильевич согласился «без малейшего сопротивления». [Bнимaниe! Этoт тeкcт с cайтa sеnаr.ru]
— А пока что пришли бы вы, может, на одно из наших собраний, — добавил я тотчас же. — Послушали бы, посмотрели, чем занимаемся.
— Приду! — ответил он с неожиданной решительностью, а через несколько мгновений заколебался как-то, вспомнив, очевидно, о своём ограниченном досуге. — Где только найти на всё время? Едва, знаете, поспеваю с собственными делами.
В заключение нашего разговора Рахманинов обещал серьёзно подумать о моём предложении, но в то же время просил и запастись терпением:
— Такие вещи, — заметил он на прощание, — не следует делать наспех.
Вообще, хотя с чисто научной стороны Сергей Васильевич был как будто заинтересован моим проектом, но нельзя было сказать, чтобы он им загорелся.
*
В ноябре того же 1931 года Рахманинов дал один из своих обычных фортепианных recitals в Карнеги Холл. Я пошёл на этот концерт, главным образом, чтобы послушать его собственные Вариации на тему Корелли, исполнявшиеся тогда в Нью-Йорке впервые. Когда после окончания всей программы и бесчисленных бисов я зашёл в артистическую, чтобы поблагодарить его за игру и за новое произведение, Сергей Васильевич, окружённый толпой жаждущих его рукопожатия, успел лишь сказать, что хочет со мной о чём-то побеседовать и что с этой целью устроит у себя свидание в ближайшие дни, как только управится с некоторыми очень срочными делами. «Возможно ли, чтобы он успел уже прийти так быстро к какому-то решению?» — спрашивал я себя, вспомнив наш сравнительно недавний разговор.
Тем временем я поместил очень пространную статью в «Новом русском слове» об упомянутом выше произведении Рахманинова. И хотя отзыв этот был с музыкальной стороны весьма благоприятный, я всё же счёл нужным сделать указание, подкреплённое историческими фактами, что композитор допустил ошибку в отношении названия своих новых Вариаций. Общий смысл моего указания был тот, что разработанная Рахманиновым тема отнюдь не принадлежит Корелли, а является, в конечном счёте, фольклорным продуктом, использованным последним в его знаменитой «Folies d’Espagne» наряду со многими другими (до и после него жившими) композиторами.
На следующий же день после появления этой статьи я получил приглашение зайти к Сергею Васильевичу. Как и в первую встречу, он после обычного приветствия сел тотчас же за свой письменный стол, на котором в этот раз лежала развёрнутая газета с моей статьёй. С неё-то он и начал свой разговор:
— Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за отзыв и за указание на мой промах. Однако... мне здесь не совсем ясна одна подробность.
— Какая же именно?
— Вот вы тут пишете, — вслух вычитывал Сергей Васильевич из газеты отдельные строки, передавая их частично своими словами, — что эта народная тема имела вначале несколько иное мелодическое строение и т. д... но что в своей окончательной редакции она была... уже использована некоторыми композиторами XVII века... между тем как первое издание Вариаций Корелли появилось лишь в 1700 году, то есть в самом начале XVIII, — так ведь?
— В общем, так.
— Но следует ли это понимать в том смысле, что версия Корелли абсолютно, то есть нота в ноту, совпадает с предшествующими ей «окончательными» версиями той же темы?
— Скажу вам по правде, что перед тем как писать свою статью, я не просматривал соответствующих сочинений всех этих композиторов; просто привёл лишь факты, давно установленные музыкальными историками. Принимая во внимание, однако, некоторую долю свободы, практиковавшуюся в те времена композиторами при заимствовании общеизвестных мелодий, допускаю и без предварительного просмотра, что все эти версии одной и той же темы содержат некоторые различия в мелочах.
— Что вы в данном случае подразумеваете под «мелочами»?
— Ну, скажем, мелизматические украшения или не слишком заметные проходящие и вспомогательные ноты, быть может, даже и какой-нибудь дополнительный затакт и т. д., в отношении которых «разночтения» почти неизбежны. Но музыкальная физиономия самой-то темы настолько выпукла и характерна, что эти поверхностные различия нисколько, конечно, не изменяют её сущности. Поэтому-то различия этого рода никак не позволяют назвать её в одном частном случае «темой Корелли», хотя она и снискала себе наиболее широкую популярность через сочинение именно этого композитора.
Рахманинов, несомненно, и сам отдавал себе ясный отчёт во всех этих несложных соображениях, но ему, видимо, хотелось найти более или менее веский предлог для оставления в неприкосновенности первоначального названия пьесы, которое уже проникло в концертные программы, ежедневную прессу, возможно, и в предварительные анонсы его предстоящего турне. Объективного же обоснования для этого предлога, к сожалению, просто не существовало в самой природе создавшейся ситуации. Позднее, впрочем, при опубликовании своего сочинения Рахманинов пришёл всё-таки к некоторому «компромиссному» решению (небезынтересному, вероятно, для музыкальных библиофилов), которое выразилось в том, что он изъял имя Корелли из заглавия Variations op. 42, напечатанного на наружной стороне нот, но сохранил его внутри — непосредственно над первой нотной строкой.
*
«Кореллиевская проблема» была для Рахманинова всё же лишь второстепенной в это моё посещение. Ибо, когда разговор о ней иссяк, Сергей Васильевич без промедления перешёл, как он сказал, на более «существенную» тему — ту, которую он имел в виду при мимолётной встрече со мной в артистической, после его недавнего концерта.
Рахманинов стал изъяснять мне, что его весьма занимает в настоящее время знаменитый средневековый напев Dies irae, который обычно известен музыкантам (в том числе и ему самому) лишь по его двум-трём начальным фразам, столь часто применяемым в различных музыкальных произведениях в качестве «темы смерти». Он, однако, хотел бы заполучить как-нибудь все остальные музыкальные строфы этого погребального напева, если таковые «вообще существуют»
Осведомился, между прочим, Сергей Васильевич и о значении оригинального латинского текста вышеуказанного напева, задал ещё какие-то вопросы исторического и бытового характера и т. д. Он, помню, с особой озабоченностью упомянул о «полноте» нужных ему сведений касательно этой мелодии, не проронив, однако, ни слова о причинах его столь заострённого к ней интереса. Разузнать у него об этом, хотя бы путём деликатного опроса, я счёл в тот день неудобным (о чём теперь сожалею), но общее моё впечатление было таково, что у Рахманинова появились какие-то значительные композиционные намерения в связи с напевом Dies irae. Во всяком случае, они были у него, как мне казалось, гораздо шире тех, что осуществлены им в симфонической поэме «Остров мёртвых», где этот напев появляется лишь эпизодически, или в «кореллиевских вариациях», где он использован в несколько фрагментарном и завуалированном виде (быть может, даже и неосознанно).
Надо сказать, что я был в то время отлично знаком со строением и историей напева Dies irae (составляющего, как известно, часть католического Реквиема), ибо за несколько лет до этого специально им занимался и даже опубликовал по поводу него две или три статьи. Я ответил Сергею Васильевичу на все его вопросы (кроме точного значения латинского текста, успевшего уже отчасти выветриться из моей памяти); сказал ему, в частности, что остальные музыкальные строфы этого напева не только «существуют», но даже весьма интересны в мелодическом отношении и что, между прочим, начало одной из них (к словам Lacrymosa etc.) сходно по общему очертанию со вступительной темой Сонаты g-moll Метнера. Последняя подробность — особенно после того, как я ему тихо «насвистал» обе мелодии подряд — ещё больше, по-моему, разожгла интерес Рахманинова к напеву Dies irae.
Вслед за этим мы стали говорить о совершенно исключительной популярности и живучести этой «замечательной», по словам Сергея Васильевича, католической мелодии. Вспоминали попутно имена воспользовавшихся ею композиторов — Берлиоза, Листа, Сен-Санса, Чайковского, Мусоргского, Глазунова и многих других; некоторые из них явились, в этой связи, полной неожиданностью для Рахманинова. Между прочим, ему казалось маловероятным, чтобы столь частое использование этого напева, а тем более проникновение его одно время и в русский православный обиход, могло явиться, как многие думали, лишь результатом какого-то молчаливо установившегося обычая среди композиторов, нуждающихся по временам в характерной и легко узнаваемой погребальной мелодии.
— Обычай — это, конечно, так, — недоверчиво заметил он, — но... похоже всё-таки, что дело тут не только в этом!
Сказав это, Сергей Васильевич вдруг сразу умолк, не уточнив своей мысли. Но по тону его последних слов, насыщенных какой-то внутренней убеждённостью, несмотря на внешнюю бесстрастность речи, чувствовалось, что, помимо «обычая», он имел в виду не одно только высокое и чисто музыкальное качество этой мелодии, но и что-то ещё... Косвенное этому подтверждение можно ныне видеть в том, что, начиная с только что написанных Вариаций на тему Корелли, Рахманинов вводил мелодию Dies irae (иногда с некоторыми изменениями) буквально в каждое своё новое сочинение, использовав её, таким образом, не менее пяти раз в общем счёте и побив в этом отношении все рекорды. Отсюда невольно приходишь к двум дополняющим друг друга заключениям: во-первых, что мелодия Dies irae имела для Рахманинова глубоко символическое значение, давно уже отвечавшее каким-то неотвязчивым его думам, особенно же в последние годы; и, во-вторых, что он в ней внутренне ощущал какие-то внемузыкальные элементы — быть может, некие «зовы» из нездешнего мира — и был даже, по-видимому, склонен приписать это бессознательное ощущение не только себе одному.
Обо всём этом было бы, разумеется, чрезвычайно интересно поговорить тут же и более подробно с самим Рахманиновым. Но он что-то плохо поддавался на эту «удочку», и разговор наш, выскочив отчасти из музыкальной орбиты, уже как-то не совсем ладно клеился. Вследствие этого я нашёл тогда наиболее благоразумным закончить его путём «внезапной модуляции» в мир конкретных и близких нам реальностей. Коротко говоря, я сказал Сергею Васильевичу, что в результате нашей беседы я знаю теперь точно, в чём заключается его просьба, и что я обещаю раздобыть всё ему необходимое в самом ближайшем будущем. На этом мы в тот раз и расстались.
*
Весь музыкальный материал напева Dies irae, а заодно и некоторая историческая о нём документация и даже русский перевод оригинального латинского текста были мной вскоре посланы Рахманинову. В следующее наше свидание (о котором подробная речь впереди) он меня в первую же очередь тепло поблагодарил за эту услугу, но — как ни странно — не сказал ничего по поводу музыкального качества неизвестных ему доселе строф, их пригодности или непригодности для композиции и т. д. Я же, с своей стороны, решил, как и прежде, воздержаться от расспросов и ждать в будущем готовых «творческих плодов».
Последние, однако, появились не скоро и далеко не в той форме, в которой можно было ожидать. Лишь приблизительно через три года после получения Рахманиновым этого материала была закончена им (в августе 1934 года) Рапсодия на тему Паганини, в которой он воспользовался несколько раз мелодией Dies irae, но дальше её всем известной начальной фразы не пошёл. Я, помню, испытал даже с этой стороны некоторое разочарование, когда впервые услышал в ту зиму исполнение им с Нью-Йоркским филармоническим оркестром этого весьма примечательного, в других отношениях, произведения. «Неужто, — подумалось, — напрасно собирал я ему весь этот материал?»
Однако я быстро «утешил» себя тем, что, в конце концов, пути творчества неисповедимы и что, быть может, самоё знание Рахманиновым всей мелодии целиком, самоё проникновение его во все её «закоулки», пусть даже и не использованные им тематически, наложило уже каким-то неведомым путём свою печать на сочинённую им музыку. Кроме того, спорадическое появление того же «лейтмотива смерти» в двух его последующих сочинениях — Третьей симфонии (1937) и «Симфонических танцах»
Никто поэтому не может сказать с уверенностью — по крайней мере в настоящее время — отказался ли Рахманинов окончательно от каких-то своих первоначальных и, видимо, более широких планов в связи с напевом Dies irae или, наоборот, не успел просто их ещё осуществить. Для будущего же историка, который когда-нибудь сделает попытку всесторонне осветить этот эпизод, некоторую ценность представит, быть может, то обстоятельство, что в сохранившихся личных архивах Рахманинова отчёркнута его рукой следующая (третья) строфа посланного ему мною русского текста поэмы Dies irae («День гнева»):
Следует заметить, что эта строфа — единственная во всей поэме, окрашенная до некоторой степени в «музыкальный» колорит.
*
Когда после описанных выше бесед я зашёл как-то к Александру Ильичу Зилоти, чтобы передать ему их содержание, — особенно первой из них, наиболее его занимавшей, — он, выслушав меня, заметил мимоходом, что я, быть может, сделал «тактическую ошибку», не воспользовавшись вопросом Рахманинова касательно моей новой тональной системы и не рассказав о ней тотчас же хотя бы в общих чертах. Ему почему-то казалось, что это могло бы каким-то образом усилить интерес Сергея Васильевича к моим музыковедческим планам вообще. Я объяснил, что это невозможно было сделать «на ходу», во время разговора на совершенно иную тему, но что, вне зависимости от моих планов, я был бы, конечно, совсем не прочь при случае изложить Рахманинову свою теорию, и притом предпочтительно полностью (для чего понадобилось бы, вероятно, не менее двух часов), а не отрывочно и на скорую руку. Зная, как занят обычно Рахманинов десятками всевозможных дел, Зилоти усомнился в том, чтобы тот согласился когда-нибудь на столь длительный «сеанс», но сказал, что поговорит с ним об этом в подходящую минуту и лишь не может сейчас точно сказать, как скоро.
Обещание своё Зилоти сдержал. Не прошло и двух месяцев, как Рахманинов, явно «подстрекаемый» Александром Ильичом, дал мне знать, что хотел бы подробно ознакомиться с моей работой, для чего предлагает прийти к нему такого-то числа (было это, кажется, в январе 1932 года) и воспользоваться, если нужно, временем между тремя и пятью часами дня.
Приглашение это было для меня одновременно и неожиданным, и показательным. Я невольно подумал о том, что если Рахманинов решился потратить столь тщательно оберегаемое им время, чтобы получить представление о какой-то чуждой ему «будущей тональной системе», то, быть может, не такой он в душе непримиримый консерватор, каким его часто рисуют. Если же отбросить это предположение, — продолжал я соображать, — то не собирается ли уж он, ознакомившись как следует с моим трудом, «отчитать» меня за склонность к новшествам, чтобы знал я раз навсегда, чего стоят подобного рода теоретические попытки.
Как это ни звучит парадоксально, но последняя перспектива устроила бы меня в ту пору больше всего. Ибо работа моя была уже принята к печати, и пока она ещё окончательно не пошла в набор, я, как всякий автор, выпускающий свою первую книгу, прилагал все усилия к тому, чтобы в её тексте, доводах, рассуждениях и доказательствах не оказалось «ни сучка, ни задоринки». А это, как известно, достигается наиболее успешным образом при помощи самой нещадной критики со стороны понимающих и даже не обязательно расположенных к автору людей.
К сожалению, расчёт мой на такого сорта критику нисколько в данном случае не оправдался. Ибо в продолжение всего моего двухчасового визита у Рахманинова в назначенный им день я не слышал от него никаких явно выраженных похвал или порицаний, хотя это отнюдь не означало и какого-то безразличия с его стороны. Поскольку я мог заметить, его главным намерением было не столько подвергнуть меня критике, сколько «вобрать» в самого себя, как бы для информации, совершенно новые для него факты, взгляды и теоретические построения.
Покуда я излагал ему содержание своей рукописи страницу за страницей (что заняло около полутора часов), Сергей Васильевич, устроившись вблизи меня, сосредоточенно внимал моим словам и музыкальным иллюстрациям на фортепиано. Лишь время от времени прерывал он меня вопросами или краткими замечаниями касательно некоторых не совсем понятных ему пунктов. По окончании же этого изложения он сам ещё молча повозился несколько минут с моими нотными таблицами и акустическими диаграммами, разбросанными по всему роялю. Наконец, сев в более удобное кресло и закурив папиросу, он стал высказывать с типичной для него «расстановкой» ряд соображений, в которых отразились, пожалуй, гораздо больше его собственные музыкальные воззрения, чем его отношение к моей работе по существу. «Диалог» наш может быть здесь передан, разумеется, лишь в очень сжатом виде.
Рахманинов начал с заявления, что хотя теоретически моим построениям нельзя отказать в логике, музыкально он пока что с трудом представляет себе какую бы то ни было систему, выходящую за пределы двенадцати тонов в октаве, не говоря уже о том, что не понимает очень многого происходящего в нынешней музыке даже и в пределах этой общепринятой нормы.
— Быть может, — говорил он, — я бы и переменил своё мнение, если б мог реально прослушать вашу новую девятнадцатитоновую гамму; но ведь вы и сами оговорились, что производящих её инструментов пока что нет и что даже вся ваша теория требует ещё долгой опытной проверки. Что же касается музыкальной эволюции, которая, как вы утверждаете, неуклонно протекает в истории, то возразить против этого вообще, конечно, нельзя; но всё же мне лично кажется, — да и не только мне одному, — что по части тональных систем эти перемены происходят гораздо медленнее и незаметнее, чем многие себе обычно представляют. Вы, вероятно, знаете, как Сергей Иванович Танеев любил изображать различные стадии музыкальной эволюции?
Я ответил отрицательно.
— Нет? — переспросил Сергей Васильевич с долей удивления. — Тогда стоит показать!
Он с готовностью сел за рояль, сыграл несколько тактов какого-то банального венского вальса и, широко улыбаясь, сказал:
— Это вот, по Танееву, означало первую стадию эволюции. «А это, — говорил Сергей Иванович, — вторая стадия (Рахманинов повторил те же такты) и наконец, — заканчивал Танеев по обыкновению, — вот вам, пожалуйста, третья стадия!»
В качестве живой иллюстрации некоторых взглядов и «дискуссионных методов» всеми любимого в Москве С. И. Танеева эта музыкальная шутка была в известной мере любопытной. Однако я должен признаться, — и тем самым слегка отклониться в сторону, — что на меня тогда гораздо большее впечатление произвело то, как именно Рахманинов сыграл три раза подряд этот совершенно пустячный музыкальный отрывок. В каждом его совсем как будто бы буквальном повторении ощущалось какое-то иное «дуновение», не объяснимое никакими словами и уж, конечно, не передаваемое никакой нотной записью; да, знаменитое «чуть-чуть» — этот центральный нерв всякого подлинного искусства — можно было уловить даже и здесь, в исполнении маленького кусочка ни на что не претендующего вальса! Насколько я мог тогда понять Рахманинова, в его лукавой и тонкой передаче этих едва ощутимых интерпретативных различий (символов малозаметной эволюции!) и заключался весь смысл приведённой им танеевской иллюстрации.
— То, что вы показали, Сергей Васильевич, очень убедительно, — поспешил я высказаться в ответ на его быстро законченную демонстрацию, не упомянув, однако, к чему больше всего относилось моё замечание. — Но я, быть может, забыл вам указать, что теория моя не предрешает ведь никаких сроков касательно введения новой гаммы в будущую музыкальную практику; не предопределяет она, следовательно, и самого темпа музыкальной эволюции, который, конечно, очень далёк от какой бы то ни было скоропалительности.
— И вы всё ж таки находите, что стоит в настоящее время заниматься научным предугадыванием новой гаммы, даже если практическое введение её в музыку — дело весьма отдалённого будущего?
— Думаю, что стоит, так как, помимо вероятной пользы для тех, кто придёт нам на смену, результаты этих занятий могут косвенно оказаться ценными и для нас самих.
— Не совсем что-то понимаю... Почему «для нас самих»?
— Поясню примером из другой области: никто ведь нынче не упрекает, скажем, астрономов в том, что они якобы зря предаются каким-то предположительным вычислениям на миллионы лет вперёд; ибо уже самая вероятность тех или иных астрономических выкладок для грядущих веков оказывает какое-то влияние на понимание некоторых явлений, случающихся в наши дни или замеченных в прошедшие времена. То же и в музыке: пытаясь заглянуть в будущее, мы глубже проникаем в настоящее и с большим правдоподобием постигаем то, что произошло в далёком прошлом.
Наступила опять одна из привычных уже для меня рахманиновских «пауз».
— Не знаю, право, как насчёт настоящего, — проговорил, наконец, Сергей Васильевич, — но вот относительно прошлого нельзя не признать, что некоторые ваши примеры, особенно ваши гармонизации китайских мелодий, подтверждают как будто эту возможность, оправдывают они её, я бы сказал, и с художественной стороны, что особенно важно. Тем не менее, мне кажется, что даже и эти примеры выиграли бы в чисто музыкальном смысле, если бы можно было немного смягчить, по отношению к ним, строгость ваших новых правил.
— Смягчить какими средствами?
— Когда вы раньше играли эти примеры, я всё думал о том, что ведь есть, собственно говоря, возможность примирить ваши квартовые принципы гармонизации с обычными терцовыми, то есть с теми, что, по вашим словам, ложно применялись до сего времени к китайским мелодиям западными композиторами.
— Но как вы себе это конкретно представляете? — схитрил я, вовлекая его своим вопросом в новую музыкальную демонстрацию.
К моему великому удовольствию, Сергей Васильевич сел за рояль и, выбрав из общей нотной стопы одну из моих китайских гармонизаций, поставил её перед собой на пюпитр. Затем, не сводя глаз с этого примера, он стал тихонько прилаживать друг к другу аккордовые последования двух различных систем — квартовой и терцовой. При этом, в зависимости от удавшихся или неудавшихся звучаний, он приговаривал время от времени почти про себя:
— Ну, вот так, например... или, быть может, так... нет, это, пожалуй, хуже... и т. д.
Выполнял Сергей Васильевич все эти соединения аккордов с возрастающей смелостью, постепенно прибавляя к гармоническому скелету не слишком сложные орнаментальные фигуры и стараясь сделать своё изложение как можно более «фортепианным».
Я сидел рядом неподвижно, боясь спугнуть нашедшее на Рахманинова увлечение гармонической головоломкой. Его попытка «примирительного» её разрешения казалась мне особенно занятной потому, что благодаря некоторой доле квартовых созвучий общий гармонический результат приобретал иногда под его пальцами (и, конечно, помимо его намерения) слегка «модернизованный» оттенок. «Как бы только уговорить его закрепить всё это на нотной бумаге? — подумал я. — Ведь если упустить настоящий момент, пропадёт навеки это живое свидетельство необычных для Рахманинова музыкальных интересов и, в частности, гармонических построений».
Между тем, утомлённый уже отчасти своим экспериментом, Сергей Васильевич внезапно оборвал его на середине, пробежавшись в заключение не связанным с ним стремительным пассажем снизу вверх по всей клавиатуре.
— Вот так, приблизительно, я представляю себе слияние воедино обоих гармонических принципов, — сказал он, пересаживаясь на прежнее место. — Но вы-то, вероятно, найдёте это недопустимым или как?
— Нисколько! Ваше «слияние» есть не что иное, как один из типов так называемой гибридной (скрещённой) гармонизации, которая в несколько более простой форме абсолютно неизбежна на промежуточной исторической стадии между тональными системами прошлого и настоящего. Ибо в этот сравнительно неустойчивый период музыкальной эволюции наиболее характерные элементы обеих тональных систем одновременно находят своё выражение в композиторской практике, Я бы мог совершенно точно проанализировать в этом аспекте весь ваш пример, если б вы его записали — сейчас или позднее — и одолжили мне на день-другой. Может, не поленитесь?
— Да что там записывать, — махнул рукой Рахманинов, — и без того всё ясно!
Увы! Попытка моя склонить его к письменному закреплению этой интереснейшей гармонизации не удалась. Восстановить же её по памяти, без риска серьёзных погрешностей против оригинала, нет и не было, разумеется, никакой решительно возможности.
Чтобы не терять нити нашего разговора, я заметил Сергею Васильевичу, что если ему теперь совершенно ясен смысл его собственной «гибридной» гармонизации, то по простейшей аналогии нетрудно догадаться, что именно происходит в некоторых сферах современной и во многом непонятной ему музыки.
— Но в чём же здесь, собственно, аналогия? — не улавливая ещё моего хода мыслей, спросил он.
— Да в том, что ведь и современная музыка находится сейчас на промежуточной стадии между двумя тональными системами, но только более высокого порядка, то есть между системами настоящего и бессознательно предощущаемого будущего. И так как эта новая музыка неизбежно заключает в себе те или иные элементы обеих систем, то её так же следует рассматривать как явление гибридного характера.
Рахманинов слегка прищурил поднятые кверху глаза, словно перебирая что-то в своём мозгу, и, немного погодя, произнёс с лёгкой усмешкой:
— Гм! Se non è vero... * [Это неправда... (ит.).]
— Пусть и так! Но, приняв основные тезисы какой-либо теории, нельзя уже миновать и вытекающих из них заключений.
— Может быть, вы теоретически и правы, — опять отчётливо отделяя в своём представлении «теоретическое» от «практического», заметил он. — Но когда я подумаю о том, что из этой самой гибридности, как вы её называете, вся нынешняя... грязь пошла, то во мне невольно закрадывается сомнение в правильности выбранного современной музыкой пути, равно как и в искренности её представителей.
С этими словами Сергей Васильевич поднялся со своего места и стал медленно, с остановками переступать по комнате. Отвечая ему на последнее замечание, я сказал, что в конечном счёте общее направление музыки, в том числе и «модернистической», есть результат не столько чьего-то сознательного выбора, сколько неукоснительного хода истории. Что же касается отдельных представителей современной музыки — живых и уже почивших, — то едва ли все они заслуживают в этом отношении совершенно одинакового осуждения.
— Не кажется ли вам, — спросил я его под конец, — что в наше время было бы уже чуточку поздновато сомневаться, например, в искренности Дебюсси или Скрябина?
Рахманинов сделал ещё несколько шагов, прислонился плечом к оконной раме и, глядя наружу, произнёс, как бы погрузившись в воспоминания:
— Ну, Скрябин... это совсем особый случай...
Было что-то трогательное и в интонации и в содержании этих немногих слов, точно пожалел он где-то в глубине души рано ушедшего из жизни и, быть может, «заблудшего», по его мнению, товарища юных лет. О Дебюсси Сергей Васильевич почему-то умолчал вообще, хотя кое-что из его сочинений он, кажется, исполнял иногда в своих концертах.
Когда я попытался сказать что-то в защиту некоторых других современных композиторов, — на мой взгляд, далеко не бездарных и, во всяком случае, морально безупречных в делах искусства, — Рахманинов поспешил оговориться, что осуждение его относится главным образом к «крайним»
Беседовать на все эти темы можно было бы, разумеется, ещё долго. Но, к сожалению, стрелки стоявших неподалёку часов предательски подбирались к пределу представленного мне времени. Поэтому, поддерживая ещё слегка наш интересный, но уже «таявший» постепенно разговор, я стал вместе с тем укладывать в портфель своё разложенное по различным местам рукописное «имущество».
Был ли Рахманинов серьёзно заинтересован предметом всей предыдущей беседы?
Возвращаясь в тот день домой, а также в продолжение нескольких месяцев спустя я не раз задавал себе этот вопрос. Ибо от ответа на него в ту или иную сторону отчасти зависело занимавшее меня тогда определение подлинного психологического облика самого Рахманинова.
Правда, Сергей Васильевич, как я уже упомянул, очень внимательно прислушивался к тому, что я ему говорил, но черта эта была свойственна его натуре вообще. Его прирождённый такт, равно как и его уменье — я бы сказал: искусство! — выслушивать до конца каждого своего собеседника отмечались многими лицами и неоднократно. Судить же о производимом на него впечатлении по случайным признакам также было нелегко, так как, за редким исключением, Рахманинов был чрезвычайно сдержан во внешнем проявлении своих эмоций и, как правило, не слишком словоохотлив.
Однако когда осенью того же года я послал ему экземпляр своей только что напечатанной книги («A Theory of Evolving Tonality») и в сопроводительном письме предложил ознакомить его как-нибудь с новым и не вошедшим в неё материалом, то получил незамедлительный ответ, который проливает некоторый свет на поставленный выше вопрос. В этом ответном письме (от 21 октября 1931 года) Сергей Васильевич сначала высказывает сомнение по поводу возможности одоления им английского языка моей книги и вслед за тем прибавляет:
«Я отлично помню, как был заинтересован Вашим словесным изложением на родном, „человеческом“ языке. С великой охотой встречусь с Вами, когда Вы сможете изложить некоторые дополнительные мысли и примеры».
Излишне говорить о том, что Рахманинов был слишком независимым во всех отношениях человеком, чтобы можно было почему-либо усомниться в искренности его слов. К тому же, по свидетельству близко знавших его людей, «фальшивость» какого бы то ни было рода была и вообще-то абсолютно чужда его характеру.
Само собой разумеется, что этот ответ Рахманинова ни с какой стороны не является свидетельством какого-либо «радикального уклона» в его собственных воззрениях, подлинная природа которых выявилась с достаточной определённостью в его замечаниях, возражениях и оговорках по различным пунктам нашей беседы. Но вместе с тем едва ли можно отрицать, что, несмотря на эти возражения, самоё наличие в нём серьёзного интереса к теоретической работе, упирающейся своим остриём в проблемы будущей музыки, уже автоматически выбивает его из стана завзятых консерваторов, которых ведь ни с какой стороны не трогают темы этого порядка. Это обстоятельство может, таким образом, послужить лишним показателем того, что при всей верности Рахманинова многим установившимся музыкальным традициям ему отнюдь не были чужды и какие-то внутренние тенденции прогрессивного характера, — мысль, которую я позднее попытался развить подробно в специальной статье на эту тему, опубликованной в одном из номеров нью-йоркского «Нового журнала»
Возвращаясь к содержанию вышеупомянутого письма, отмечу, что предполагавшаяся в нём «дополнительная» наша беседа так и не состоялась. Намеченная Рахманиновым для этой цели встреча в конце рождественских праздников должна была быть отменена ввиду его перегруженной «страдной поры», как он любил выражаться. И хотя свидание это было не столь уже насущным, ибо о главном мы в своё время наговорились вдоволь, Сергей Васильевич всё же искренно пожалел о невозможности осуществить его в назначенный им приблизительно срок, как это явствует из другого его письма (от 4 января 1933 года), содержание которого почти целиком составляют следующие строки:
«Как мне это ни грустно и ни досадно, но я никак не могу встретиться с Вами в январе. Очень надеюсь, что по возвращении своём в Нью-Йорк через два месяца и до отъезда моего в Европу я смогу найти время, и мы тогда поговорим о Ваших интересных работах».
Убедившись уже не впервые, как нескончаемо занят был Рахманинов своими собственными делами, и будучи осведомлён стороною, как много времени и внимания ему часто приходилось уделять и другим, я решил не напоминать ему больше об отложенном свидании. Не было у меня более особой надобности беспокоить его и прежними музыковедческими планами. Ибо к тому времени в Европе наступили уже чёрные дни, и людям там было не до музыковедения.
*
Прошло более двух лет, прежде чем мне довелось опять соприкоснуться с Рахманиновым, но на сей раз это произошло уже исключительно в письменной форме.
Незадолго до этого я занимался, в числе других работ, проблемой взаимоотношения русской народной песни и православных церковных напевов, равно как и их совместного влияния на творчество русских композиторов. Наиболее существенными при этом оказались для моих исследований неосознанные композиторами влияния. И вот среди великого множества просмотренных мною мелодий я неожиданно наткнулся на древний и чрезвычайно интересный лаврский напев «Гроб твой спасе воини стерегущий», который в переводе на современную нотацию может быть представлен в следующем виде:
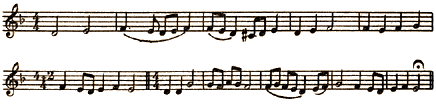
Напев этот сразу же произвёл на меня впечатление оригинального прототипа общеизвестной и в конструктивном отношении значительно более развитой первой темы Третьего фортепианного концерта Рахманинова. Дальнейший и исчерпывающий музыкальный анализ не только подтвердил правильность моего первого впечатления, но ещё и установил неизмеримо более глубокую и «органическую» связь между обеими мелодиями. Оставалось лишь решить, является ли эта связь результатом обычного в музыкальной практике сознательного тематического заимствования (что не представляет особо выдающегося интереса) или результатом того типа мелодического влияния, которое, как сказано, композитором не осознано.
Для полного выяснения этого пункта я решил обратиться непосредственно к самому Рахманинову, проводившему тогда весну и лето у себя в Швейцарии. Воздержавшись, в целях научной объективности, от преждевременного сообщения в моём письме об этой находке, я просил Сергея Васильевича ответить мне на ряд вопросов, касающихся возникновения, строения и характера интересующей меня темы его концерта. Обратное письмо Рахманинова (от 30 апреля 1935 года) пришло недели через три после этого вопроса и оказалось более пространным, чем можно было ожидать. Оно заключало в себе не только последовательный разбор всех моих вопросов, но ещё немало дополнительных сообщений, личных ощущений и кое-каких косвенных соображений в связи с этой темой.
По техническим соображениям я опускаю в настоящем очерке все эти детали, равно как и мой собственный анализ обеих мелодий вместе с некоторыми музыкальными, психологическими и общими выводами, ибо исчерпывающая трактовка этого предмета требует совершенно особой статьи, которая и будет со временем опубликована. Здесь же я ограничусь цитированием лишь одного параграфа этого «швейцарского» письма, который прямо и бесповоротно исключает предположение о сознательном заимствовании Рахманиновым его темы откуда бы то ни было:
«Первая тема моего 3-го концерта, — пишет Сергей Васильевич, — ни из народно-песенных форм, ни из церковных источников не заимствована. Просто так „написалось“! Вы это отнесёте, вероятно, к „неосознанному“! Если у меня и были какие планы при сочинении этой темы, то чисто звуковые. Я хотел „спеть“ мелодию на
Даже и этот небольшой эпистолярный отрывок содержит в себе, помимо чисто фактической информации, некоторый материал для размышлений о природе тематического заимствования в музыке, равно как и о роли сознательного и бессознательного начала в художественном творчестве вообще. Материала этого имеется, конечно, больше в остальной (и несколько специальной) части рахманиновского письма. Однако подробнее обо всём этом в другой раз!
*
Мне остаётся рассказать о моей последней и непредвиденной встрече с Рахманиновым, которая случилась при не совсем обычных для нас обоих обстоятельствах. Произошло это на одном из собраний Общества друзей русской культуры в подвальной аудитории отделения Нью-Йоркской публичной библиотеки (на 145-й улице). Точно помню и дату: 28 ноября 1942 года — ровно за четыре месяца до кончины Сергея Васильевича.
Любопытно, что за многие годы существования указанного Общества я никогда не видел Рахманинова на этих собраниях, хотя сам посещал их довольно часто, а потому допускаю, что он и вообще-то явился туда впервые. И по странному совпадению это был один из очень редких случаев, когда я выступал публично в непривычной для меня роли — в данном случае как один из официальных участников прений по состоявшемуся за неделю до этого докладу профессора Г. П. Федотова на тему: «Демократия безрелигиозная и христианская».
Рахманинов сидел с группой близких ему людей в последнем ряду этого небольшого помещения и, как мне потом передавали, пришёл туда задолго до начала, будучи, очевидно, недостаточно осведомлён о «пунктуальности» русских собраний вообще, вследствие чего и ждать ему пришлось, вероятно, немало. Меня попросили говорить в первом отделении, и я помню, как сейчас, пристально смотрящего в сторону эстрады Сергея Васильевича с облокотившимися на спинку пустого перед ним стула руками и зажатой в ладонях головой.
Выйдя потом в фойе во время перерыва, я лишь почти к самому его концу наткнулся на курящего там в одиночку Рахманинова, так что поговорить нам пришлось на сей раз совсем уж коротко. Чрезвычайно изменившийся со дня нашей последней встречи, Сергей Васильевич, как оказалось, не узнал и меня на эстраде — отчасти, как он сказал, из-за того, что давно меня не видел, отчасти же потому, что фамилия моя была произнесена председателем недостаточно внятно.
— Но как это вообще вышло, что вы заговорили здесь на... немузыкальную тему? — спросил Сергей Васильевич с некоторым любопытством. — Впрочем, не подумайте чего-нибудь, — спохватился он тотчас же, — я ведь отлично понял, что вы сказали.
Не знаю, означало ли слово «понял» на языке Сергея Васильевича и то, что он одобрил мою речь. Но в ответ на его столь прямолинейно поставленный вопрос я вынужден был «сознаться», что, хотя моё сегодняшнее выступление здесь и случайно, тема его мне отнюдь не чужда; ибо при несколько ином стечении чисто внешних обстоятельств в давно прошедшие годы религиозная философия, а не музыка, могла оказаться в центре моих жизненных интересов и устремлений.
— Однако же, в конце-то концов, вы всё-таки остались музыкантом? — допытывался Сергей Васильевич.
— По-видимому, так. Но в профессиональном отношении это произошло почти что против моей воли... Одно слово — судьба!
— Да... одно слово, но какое! — тихо отозвался он, кинув в сторону папиросный окурок.
Перерыв был уже на исходе, и мы оба вместе с публикой стали медленно возвращаться в аудиторию, обмениваясь по дороге отдельными фразами по поводу произнесённых речей. Предстоял ещё заключительный ответ на них самого докладчика, которого Сергей Васильевич в прошлый раз не слышал, что, между прочим, ещё больше усиливало для меня непонятность его прихода на сегодняшние прения. Перед тем как уйти к себе в последний ряд, Рахманинов протянул мне руку на прощание, и я, пожимая её, не удержался от того, чтобы спросить, что, собственно, привело его на это собрание.
— Выходит, что не только я, но и сами-то вы интересуетесь вопросами религиозно-философского характера? — закончил я своё к нему обращение.
Он попытался было сказать мне что-то в ответ, но, услыхав вдруг голос председателя, готовившегося возобновить заседание, ограничился на ходу безмолвным жестом, который вместе с какой-то покорностью на его усталом лице говорил: «Думаю, что вовсе пройти мимо этих вопросов едва ли кому дано!»
Этой мысли, если я верно воспринял её, суждено было оказаться последней, переданной мне Рахманиновым в здешней жизни.